Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]
— Для меня все больные, — сказала она тихо, так как все молчали. — И мои дети, и муж также больные…
Все продолжали молчать, Пенин и тот молчал. Медбрат Володя пожирал жадными очами медсестру Вику, вчерашнюю выпускницу медтехникума.
Тогда я встал и сказал:
— Ксению Александровну Карпухину я увольняю. В трудовой книжке напишу по собственному желанию. Собрание закончено. Все идите работать.
Молча поднимались и расходились мои друзья, ученики и помощники. Карпухина перестала плакать и зло кривилась…
В своем кабинете я сел в кресло и хотел пять минут отдохнуть с закрытыми глазами. Но вошел Пенин и сказал, что умирает Дмитрий Савельевич. Началась у него агония.
5
Я за свою жизнь видел столько смертей, сколько видеть не положено одному человеку. Как будто на войне был все время, как будто постоянный мор свирепствовал вокруг меня.
К ужасу своему я понял, что человек умный смерти не боится. Глупый — тем более: он ее знать не знает, и не понимает, и не заглядывает в нее, — чего же бояться.
Боятся люди бессмертия. Боятся, что не умрут до конца. Будут лежать без движения и сил, опустив веки, а не умрут. Будут все слышать и понимать, а не скажут этого. Тело умрет, сознание — нет. Идея бессмертной души в глухой природе человека, в его инстинкте и разуме. И там — страх, жуть. Страха смерти как такового, то есть вечного отсутствия, не существует, это ложное впечатление. Есть страх вечного пребывания в бездеятельности, в безконтактности с живым миром, с людьми. Это чаще всего ощущают дети и глубокие старики. Малые дети не любят засыпать, инстинктивно оттягивают минуты сна. Сон у них подсознательно ассоциируется с небытием, со смертью. И сновидения детей часто кошмарны.
Глубокие старики перед кончиной проявляют активную жажду деятельности, пытаются обмануть себя. Поют, жалко суетятся. Успокаиваются только, когда разум погружается в дрему. Но полное отрешение от мира не наступает до самого конца, и умирают люди, и с последней тоской тянутся уже не к жизни, а к погружению, к смерти.
Легко умереть, трудно и невероятно представить вечное пребывание.
Смерть понять человек не может, поверить в нее хочет.
Мы, материалисты, ведем разум к окончательному осознанию абсолюта смерти, и в этом наша правда, и доброта, и справедливость.
Дмитрия Савельевича перевезли в отдельную палату. Он не терял сознания, хотя ему уже ввели все облегчительные средства. Его ждала последняя борьба. Я знаю примеры, когда такие больные агонизируют неделями. Спасения нет.
Когда я вошел, Дмитрий Савельевич лежал с открытыми глазами, сцепив синие пальцы на груди. В палате было светло и чисто, той особенной светлотой и чистотой, которой иногда окружает тебя смерть. На тумбочке возле кровати почему-то стояли жестянки с персиковым компотом.
— Вот и все, — сказал Дмитрий Савельевич и спокойно улыбнулся. Он попробовал повернуться на бок, но не смог.
— Лежи, не ворочайся, Савельич, — сказал я. — Так легче.
— Это хорошо, что ты зашел, — сказал он. — Вишь, как помираю, один, и проститься не с кем. Зазря не отправили меня домой, доктор!
— Оклемаешься, — сказал я примирительно. — Это бывает при твоей болезни. Потерпи немного.
Его взгляд был мудр и трезв.
— А я ведь не боюсь, — сказал он тихо. — Меня не надо утешать, не баба. Больно очень. Только, паскудина, сейчас отпустила, но снова придет, чую. Ты бы, Дмитрий Иваныч, велел кольнуть покрепче, чтобы дело с концом. Знаешь, поди, каково так лежать. А-а?
Мы разговаривали о самом главном, мирно и неспешно, и я был теперь опять как бог, а он как человек. А богом быть мучительно. Лучше бы я согласился наоборот. Часто-часто хотел я в моей жизни, чтобы было наоборот. И знаю, что скоро так и будет. И я буду один и прогоню всех близких своих; не надо никому видеть уход, никому это не поможет, а лишние хлопоты.
— Не спеши, Савельич, — сказал я почти весело. — Не спеши помирать. Не в догонялки играем. Все пройдет. Это только сильный приступ, понимаешь?! Я тебя, старик, на вокзал еще провожу…
— На вокзал, — вдруг странно улыбнулся он. — На тот вокзал я сам поеду, доктор. Бесплатно, причем… Кольнул бы, и точка. Хватит, не жалко. Уже, я вижу, кругом другие люди живут. Но все равно, что ты пришел, спасибо!
Я все понимал, но ничего сделать не мог и не имел права. Сейчас он забудется. И точно. Дмитрий Савельевич еще смотрел на меня осмысленно, но глаза его мутнели, что-то поднималось к ним изнутри и застилало его мир страшной пеленой. Он вытянул руку и завыл коротко и дико, как зверь, но хуже и обидней зверя… Он больше не видел ничего и никого.
— Колите! — сказал я сестре Нине. Она с пониманием кивнула….
И вот я вышел и шел по коридору своего отделения. И долгая дорога привела меня в кабинет. Я сел на свой привычный стул и зажмурил глаза. Что-то у меня с сердцем. Голова перекатывалась и качалась толстой тыквой, распухала, как чирей, и снова сжималась до размера детского кулачка. А когда я открывал глаза, то все постепенно и со скрипом вставало на свои места, в обычные пропорции. В левое плечо покалывало. Это мне уже давался сигнал, что пора.
Но я не хотел — пора. Я хотел длинные годы еще ходить по городу, открывать и закрывать дверь в операционную, поставить на ноги сына я очень хотел. И хотел даже посмотреть, как он будет стоять на своих ногах.
…Сияющее лицо Берсенева было синее, белое и каменное.
Он открыл глаза внезапно мне навстречу. Я испугался. Что это? Очень рано ему приходить в мир. Ему надо существовать в спасительном беспамятстве.
Но он смотрел мне прямо в лицо осмысленно и дерзко. Рот его покривился, губы оплавленные расползлись, и он сказал:
— Благодарю вас, доктор!
Завороженный, я стоял и смотрел на Берсенева, такого сильного, сильнее, может быть, меня самого. Я ему улыбался заискивающе.
— Все в порядке, доктор, — сказал он очень негромко. — Боли есть, но не те. Старую боль мы вырезали.
— Да, — сказал я. — Ты, пожалуйста, спи. Все в порядке, мой дорогой.
— Спасибо, доктор. Вы — гений, действительно. Знаете, надо поработать мне. А уж думал было, не смогу. И боялся…
— Знаю, — сказал я. — Вы немного бредите, Берсенев. Но это естественно. Я понял. Мы с вами поработаем всласть.
Он засыпал облегченно. Значит, вот что. Он знает то же, что и я.
— Доктор, — сказал он совсем уже во сне. — А я ведь не умру!
Вот, значит, как, думал я в трамвае. Именно что работа. Но разве только работа? А любовь? Цель? Какой хитрый Берсенев, хитрый жук, открывает мне глаза на свет. А я знаю. Просто устал немного, заботы, годы, понимаете. Человек устал.
Скоро отдохну, поеду на рыбалку. Мы с вами, Берсенев, еще поговорим потом.
Сразу я не понял, а теперь вижу. Завтра и поговорим. У меня завтра две операции, партсобрание, выезд на консультацию, еще что-то менее важное.
Но к вечеру управлюсь и приду к вам в палату, и мы поговорим.
1970
Ничего не случилось
(Повесть)
Отпуск
1
Меня зовут Степан Аристархович Фоняков, я одинокий мужчина сорока четырех лет. Взялся я за эти заметки, чтобы развлечься, найти занятие по вечерам, когда надоедает телевизор, а спать — не спится, и мрачные мысли начинают будоражить истомленный за день мозг.
Характер у меня спокойный, приключений никаких от жизни не жду, и, думаю, записи эти будут так же скучны, как моя жизнь в последние годы. Но это ничего.
Для начала опишу сегодняшний день, как он был.
Утром в моей квартире, — наверное, и во всем доме — отключили горячую воду, и я поставил на газ большую кастрюлю, чтобы согреть воду и умыться. А пока газ горел и вода грелась, позвонил в диспетчерскую жэка. Ответил, как обычно, грубоватый женский голос.
— Чего? — сказал голос.
— У нас воду горячую отключили, — сообщил я. — Хотелось бы знать причины.
— Какие такие причины! Труба небось лопнула — вот тебе и причины!
— А надолго лопнула?
С этим она и бросила трубку. Я сходил, потрогал пальцем воду в кастрюле — рано. От нечего делать опять набрал номер и сказал другим, измененным голосом:
— Диспетчерская?
— Да.
— Говорит Бурлаков из управления. Немедленно исправить положение с горячей водой и доложить лично мне. Кто принял?
— Чего? Ну, Троекурова я…
— Выполняйте, товарищ Троекурова.
Довольный мистификацией, я умывался в хорошем настроении, на завтрак с аппетитом съел бутерброд с сыром, лепешку творога, яйцо и выпил чашечку некрепкого кофе, на четверть разбавив его сливками. Потом сложил посуду в раковину, сполоснул оставшейся в кастрюле водой и убрал в шкафчик.
Пора было выходить.
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/uploads/posts/books/122894/122894.jpg)
![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/uploads/posts/books/133327/133327.jpg)
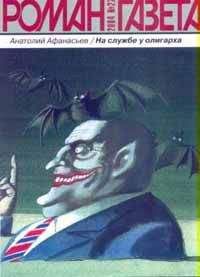
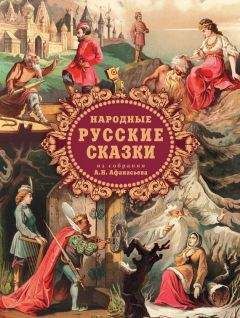
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/uploads/posts/books/237651/237651.jpg)